 | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
Март-апрель 1915. Выставка живописи 1915 год", Москва 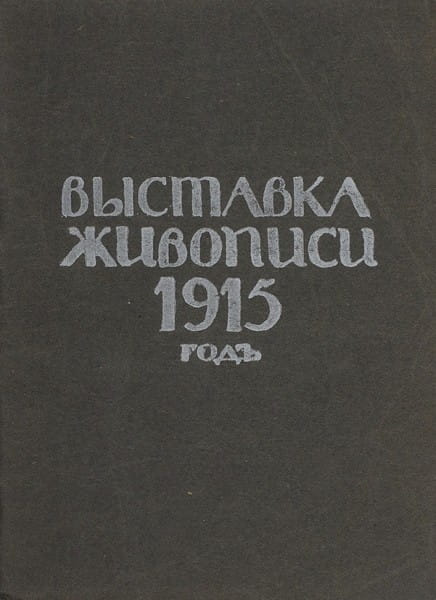
Каталог выставки. Выставка живописи. 1915 год / выст. орг. К.В. Кадауровым. М.: Художественный Салон, 1915. 16 c. 16 х 12 см. 23 марта 1915, почти одновременно c петербургской «Первой футуристической выставкой картин “Трамвай В”», в Москве, в Художественном салоне Клавдии Михайловой, открылась выставка авангардистов «1915 год». Все участники выставки На выставке были представлены в основном москвичи, но участвовали и молодые петроградцы По каталогу: Н.И.Альтман, Л.А.Бруни, В.Д.Бурлюк, Д.Д.Бурлюк, К.Гольфарб, Н.С.Гончарова, А.В.Грищенко, С.Б.Гурвиц-Гурский, А.Р.Дидерихс, В.В.Кандинский, П.П. Кончаловский, Э.К.Крон, А.В.Куприн, М. Ф. Ларионов, М.П.Латри, А. В. Лентулов, Н.В.Лермонтова, Н.И.Любавина, И. И. Машков, А.И.Мильман, П.В.Митурич, О.С.Мещанинов, М.М.Нахман, Ю.Л.Оболенская, А.П.Плигин, Е.С.Потехина, В.В.Рождественский, В.В.Савинков, М.С.Сарьян, С.И.ТОлстая, Р.Р.Фальк, Г.Ф.Федоров, В.М.Ходасевич, М. З. Шагал, П.И.Шестопалов, В.Ф.Шехтель, Г.Я.Якулов и некий NN. В каталог не были внесены работы, представленные на выставке: В.В.Маяковский. "Рулетка", "Самопортрет" К.С.Малевич. "Композиция с Моной Лизой" А также - А.А. Моргунов ("Шаляпин идет в баню"), В.Е.Татлин (два кортррельефа), В.В.Каменский (трюк с мышами и сковородкой), Ю.И.Крон и некоторые другие.
В. Маяковский. Chemin de fer (Рулетка) 1915. Музей Маяковского, Москва
Казимир Малевич. Композиция с Моной Лизой. 1915. Холст, масло, графитный карандаш, коллаж. ГТГ, Москва Марк Шагал попал на выставку со своими 25-ю работами благодаря содействию критика Якова Тугендхольда. (см. письмо Я. Тугендхольда устроителю выставки Константину Кондаурову со списком работ Шагала и рекомендациями по их экспонированию - Шагал. Возвращение мастера. С. 316-317). Несколько работ Шагала с выставки были приобретены коллекционерами И. А. Морозовым и Я. Ф. Каган-Шабшаем.
Марк Шагал. Парикмахерская. 1914. Картон, гуашь, масло, графитный карандаш. 49,3 х 37,2. ГТГ, Москва Выход за пределы холста: от контр-рельефов Татлина до инсталляций Ларионова и перформансов Каменского Искусствоведы отмечают, что основных трендом выставки была линия, заявленная в прошлом году Татлиным: работы, "выходящие за плоскость холста", представили несколько авторов - помимо самого Татлина, это были работы Ларионова, Маяковского, Моргунова, Гончаровой, Каменского, Толстой. Позднее Софья Дымшиц-Толстая (представленная на выставке, согласно каталогу, девятью номерами: четырьмя картинами и пятью "стеклянными миражами", № 138-146) вспоминала: "В спорах, в борьбе выковывались новые направления. Уходил в прошлое "Мир искусств", группа "Бубновый валет" создавала русского Сезанна; довлели Татлин и Малевич, создавшие две школы. Первый от станковой живописи перешел к конструктивизму, а в дальнейшем к контррельефу. Второй ушел в беспредметную живопись, в сторону изучения цвета и линии. Молодежь разбилась на два лагеря, две группы, которые всегда были непримиримы. Я примкнула к "татлиновцам", хотя не могла оторваться ни от цели, ни от плоскости, ибо как раз над материальной пространственностью в плоскости я работала". При этом "татлинская линия" (контр-рельефов) была развита Ларионовым до идеи "тотальной инсталляции", а Каменским - до идеи перформанса. Ларионов только что вернулся из госпиталя, где лечился от фронтовой контузии. Ольга Розанова в декабре 1914 в письме сестре рассказывала: "Ларионов был на войне. Контужен. У него теперь паралич обеих ног. Кроме того, они с Гончаровой устраивали выставку своих картин в Париже (имеется в виду выставка Гончаровой и Ларионова в парижской галерее Поля Гийома, проходившая в июле 1914, на которой были показаны 50 картин Гончаровой и 25 Ларионова), а на обратном пути в Россию картины эти были в пути задержаны немцами в Германии, всего больше 80 картин, и самые все лучшие" (Лефанта чиол…", из-во RA, 2002, с.245)
Гончарова и Ларионов в начале войны, 1914 Шемшурин вспоминал о подготовке к выставке: "Я помню последнюю выставку, на которой участвовал Ларионов. На ней соединились элементы, до того времени считавшиеся взаимно уничтожавшимися. (…) Коллектив медленно собирался: тащили картины, ходили смотреть, кто что принес: народ собрался все высокой марки, пальца в рот себе никто не дал бы положить. Назову ли я Бурлюка, Маяковского, Каменского… Ходили, ходили. Наконец решили собраться поговорить. Устроили собрание. Не помню, кто именно, но кто-то высказал такую мысль: “Ну что выставка? Что картины? Нет слов, вещи собраны замечательные. Но кто понимает искусство? Ты да я. А публика, разве она что-нибудь понимает? Ей нужен шум! Разговор! А без публики какая же выставка? Что бы такое устроить?”. Вопрос был поставлен. Ответы посыпались такие: кто-то предлагал буфет с музыкой, кто-то лекцию по футуризму с Крученых, кто - раскрашивание лиц и желтую кофту Маяковского и т.д. Ларионов молчал. Все искоса поглядывали на него. Собрание было в первой от выхода зале. Было накурено, и кто-то догадался открыть электрический вентилятор, бывший в стене. Ларионов молча смотрел на стену и на вертилятор. - Мишка, ну что же ты молчишь? - послышались голоса. - Устроить можно, - начал Ларионов своей обычной скороговоркой. - Эту стенку кто-нибудь уже взял? - спросил он, указывая на стену с вентилятором. Но стена была неудобная для картин: зала была узкая, против стены - большое окно. Никто не хотел здесь вешать картины. Из-за этой стены всегда бывали споры между художниками. Ларионов заявил, что берет себе стену. Как ни интересовались товарищи, но Ларионов не сказал, что именно он устроит для публики. Опять пошли скучные дни, предшествующие обыкновенно открытию выставки. Художники опять заходили на выставку посмотреть, кто что принес. Приходившие видели Ларионова, занятого взятой им стенкой. Чего он делал первые дни, никто не понимал, но то была не картина, что он делал. Да и все понимали, что писать картины на выставочной стене нельзя. Проходит день, другой, кто-то стал догадываться о чем-то. Стали шушукаться. Но чем больше выяснялась мысль Ларионова, тем больше пошло разговоров. Товарищи Ларионова считали себя обойденными. Выдумка была действительно гениальна: шум в обществе должен был быть огромным. Но товарищи не радовались, а досадовали - как это никому в голову не пришло того, что выдумал Ларионов. Ларионов прибил к стене женину косу, картонку из-под шляпы, вырезки из газет, географическую карту и т.д. и т.п. Когда все было готово, Ларионов брал под руку товарища , показывал ему стенку и пускал в ход вентилятор. У всех опускались руки. Все были в отчаянье. Все понимали, что публика будет толпиться у стенки Ларионова, и картин в других залах никто не будет смотреть. .. Подавленное настроение воцарилось на выставке. Но на другой и на третий день мозги прояснились. Оказалось, что не занята часть стены, ближе к двери, и стены на лестнице. И вот, в день открытия, на этих стенах появилось то, чего Ларионов не ожидал. На стене появился цилиндр и жилетка с подписью "Портрет Маяковского". Еще дальше ко входу - рубашка и мочалка с подписью "Бурлюк в бане" (Ш. путает - это было несохранившееся произведение Моргунова "Шаляпин идет в баню", Шаляпин был известен своей любовью к баням, везде о ней рассказывал и писал - А.Б.). Кто-то повесил половую щетку, а Каменский повесил мышеловку с живой мышью. Хозяйка помещения, Михайлова, узнав о мыши, заявила, что если мышь не будет убрана, то она откажет в помещении. Мышь пришлось убрать". (Шемшурин А.Л. Воспоминания // Неизвестный русский авангард в музеях и частных собраниях. М., 1992. С. 134, 135, 196).
Андрей Шемшурин, Давид Бурлюк, Владимир Маяковский, 1914 В письме Шемшурина Поленову (РГАЛИ, Ф. 769, Оп.1, Е.х. 283, Л. 1-2) приводятся некоторые дополнительные подробности: "Дело было так. Ларионов предложил устроить какой-нибудь трюк, т.к. картины уже никому не нужны. Участвующие согласились, но не было решено, что именно устроить. Когда же собрались на другой день, то увидали, что Ларионов написал свой автопортрет, который вышел прямо на стене. Т.к. тут же был вентилятор, то и он вошел в композицию. Помимо вентилятора, Ларионов наклеил картонку из-под шляпы, обрывки географических карт, протянул веревки, завернул полосы картона и т.п. Назвал все это лучизмом. Участники, как увидели, так и ахнули. Конечно, не от возмущения, а от оригинальной выдумки. Все стало понятно, что публика только и будет говорить о Ларионове. Тогда решили как-нибудь стушевать оригинальность. И вот Лентулов приволок рубашку, панаму, мыло, повесил на стену, что-то подмалевал, назвал портретом Бурлюка. Картина эта будто бы уже куплена. Маяковский выставил свой автопортрет. Приклеил половину своего цилиндра, перчатку, книгу со стихами, сдачу карт игральных, обрывки "Русского слова", промежутки между этими вещами закрасил. Малевич и Моргунов поставили свои гербы, т.к. картины их в Петрограде. На герах что-то намазано и воткнута деревянная ложка. Под гербами подпись: мы - февралисты, такого-то февраля мы освободились от разума. Такими произведениями трюк Ларионова был уничтожен. Самое оригинальное выдумал Вася Каменский: он принес мышеловку с живой мышью, сковороду, кажется, ступку и что-то еще из кухни. Но К.Михайлова не позволила разместить это произведение. Это решение приписали проискам Ларионова". Но Каменский не смирился и отыгрался на вернисаже. Шевелящиеся от потока воздуха женские волосы и качающейся от того же потока фигуры солдата, сооруженной рядом из палок и веревок, в каталоге названы "пластическим лучизмом". Ларионов эту свою работу очень ценил. Сохранились письма, в которых он спрашивал у музеев, цела ли его доска с косой. Но в конце концов работа была утрачена. Кроме "Косы", он представил на выставке "Железный бой" и "Портрет Н. С. Гончаровой". Тугенхольд так описывает "Железный бой": "он взял доску, оклеил ее кусками военных карт, бумажками от карамели и национальными флажками, прикрепил к ней детский домик в виде крепости и черные палочки, символизирующие пушки, и провел кровавые реки и горы, в виде каких-то красных наслоений. Так получилась "военная игрушка", которую ребенок сделал бы куда лучше, ибо во имя декоративной стороны войны он забыл бы о ее крови…" В "портрете Гончаровой" использовал вырезки из театральных афиш ("Золотого петушка", "Веера").
Михаил Ларионов. Портрет Натальи Гончаровой. 1915. ГТГ, Москва Для Ларионова и Гончаровой это была последняя прижизненная выставка в России. Летом Дягилев пригласил их в Париж для участия в его антрепризе, и они уже не возвращались на родину. Шемшурин ничего не говорит еще об одном участнике выставки, Владимире Татлине. Тот недалеко от входа он прибил к полу железный угольник солнечных часов, от которого к месту, где должна была висеть работа, прочертил белой краской линию. Участница событий, художница Валентина Ходасевич, развеску и вернисаж вспоминает подробней всех: «Мадонна» из треугольников получилась у Володи великолепно — будто год над ней работал. В Москву мы приехали весёлыми. Татлин — прямо в Салон: выбрать и забронировать место для картины, а повесит он её завтра утром, перед самым вернисажем, а то мало ли что. За час до открытия в первом зале ползал по полу Татлин — недалеко от входа он прибивал к полу железный угольник солнечных часов, от которого по диагонали к месту, где должна была висеть «Мадонна», прочерчена белой краской линия примерно в три сантиметра шириной. Пресса на выставку "1915 год" была в основном негативная. Отзывы прессы Леблан М.О. О выставках картин. Вечерние известия. 1915. №720. 24 марта. С.6 Это выставка не определенного одного какого-либо общества, а просто нашелся энергичный и предприимчивый человек и решил сделать хороший сбор, и потому вместе с серьезными работами есть работы ни к живописи, ни вообще к искусству никакого касательства не имеющие. Для меня нет ничего уливительного, что вчерашний их вернисаж прошел чрезвычайно скучно. Восемь месяцев великой священной войны, с массой редких переживаний, сделали то, что футуризм, казавшийся вчера резвым ребенком, сегодня уже - скучный, брюзгливый старикашка, но старикашка не прочь иногда подчернить усы, волосы зачесать от левого уха к правому, чтобы лысина не так уж сверкала. С. Яблонский. Оскар Мещанинов. Русское слово. 1915. №68, 25 марта, с.4 Сразу же после появления этого фельетона в печати, на выставке появилось новое произведение: … Футуристическое разрушение осуществляется не во имя каких-нибудь, хотя бы и лживых, целей, но во имя утробных интересов (…) Рыч. Они пугают… Вечерний вести газеты "Патруль". 1915. №209. 25 марта. с.4 Гг Бурлюки, Маяковские, футуристы, кубисты, февралисты и прочие исты продолжают пугать публику… Б.п. - А. Койранский. "1915 год". Утро России. 1915 №82, 25 марта. с.5 Ив.П. Отголоски дня. Московский листок. 1915. №9, 27 марта, с.4-5 Захожу на выставку художников-футуристов и стоп! - открываю в изумлении рот. Кубофутуристы приложили все усилия, устраивая "Выставку живописи 1915 года", чтобы снова обратить на себя внимание публики, которая стала их забывать. Яков Тугенхольд. В железном тупике. Северные записки. 1915. № 7-8. Июль-август, с. 103 "Выставка "1915 год", устроенная Кандауровым в московском художественном салоне с интересной целью дать объективную картину современной живописи, - настоящая вакханалия всех разновидностей футуризма. Правда, есть на выставке и другие направления. Есть работы членов "Бубнового валета", кажущиеся теперь пресными рядом со всем последующим - большой ковровый проект Кончаловского, яркие, сочные фрукты Машкова, интимные пейзажи Фалька и красивые натюрморты Куприна. Есть хорошие вещи у Альтмана, г-жи Толстой, Латри, Оболенской, Ходасевича и, в особенности, у молодого витебского художника - Марка Шагала. Но все это заглушается крикливыми выступлениями футуристов, которые ослабляют восприимчивость зрителя ко всему остальному. Выставка "1915" в художественной литературе Выставка и ее образы вдохновили Аркадия Аверченко на написание небольшой сатиры Аркадий Аверченко. Крыса на подносе — Хотите пойти на выставку нового искусства? — оказали мне. — Хочу, — сказал я. Пошли. — Это вот и есть выставка нового искусства? — спросил я. — Это самая. — Хорошая. Услышав это слово, два молодых человека, долговязых, с прекрасной розовой сыпью на лии* и изящными деревянными ложками в петлицах, подошли ко мне и жадно спросили: — Серьезно, вам наша выставка нравится? — Сказать вам откровенно? — Да! — Я в восторге. Тут же я испытал невыразимо приятное ощущение прикосновения двух потных рук к моей руке и глубоко волнующее чувство от созерцания небольшого куска рогожи, на котором была нарисована пятиногая голубая свинья. — Ваша свинья? — осведомился я:. — Моего товарища. Нравится? — Чрезвычайно. В особенности, эта пятая нога. Она придает животному такой мужественный вид. А где глаз? — Глаза нет. — И верно. На кой черт, действительно, свинье глаз? Пятая нога есть — и довольно. Не правда ли? Молодые люди, с чудесного тона розовой сыпью на лбу и щеках, недоверчиво поглядели на мое простодушное лицо, сразу же успокоились, и один из них спросил: — Может, купите? — Свинью? С удовольствием. Сколько стоит? — Пятьдесят… — Было видно, что дальнейшее слово поставило левого молодого человека в затруднение, ибо он сам не знал — чего пятьдесят: рублей или копеек? Однако, заглянув еще раз в мое благожелательное лицо, приободрился и смело сказал: — Пятьдесят ко… рублей. Даже, вернее — шестьдесят рублей. — Недорого. Я думаю, если повесить в гостиной, в простенке, будет очень недурно. — Серьезно, хотите повесить в гостиной? — удивился правый молодой человек. — Да ведь картина же. Как же ее не повесить! — Положим, верно. Действительно, картина. А хотите видеть мою картину: «Сумерки насущного»? — Хочу. — Пожалуйте. Она вот здесь висит. Видите ли. картина моего товарища «Свинья, как таковая» написана в старой манере, красками; а я, видите ли, красок не признаю; краски связывают. — Еще как, — подхватил я. — Ничто так не связывает человека, как краски. Никакого от них толку, а связывают. Я знал одного человека, которого краски так связали, что он должен был в другой город переехать… — То-есть, как? — Да очень просто. Мильдяевым его звали. Где же ваша картина? — А вот висит. Оригинально, не правда ли. II
Нужно отдать справедливость юному маэстро с розовой сыпью — красок он избегнул самым положительным образом: на стене висел металлический черный поднос, посредине которого была прикреплена каким-то клейким веществом небольшая дохлая крыса. По бокам ее меланхолически красовались две конфетных бумажки я четыре обгорелых спички, расположенных очень приятного вида зигзагом. — Чудесное произведение, — похвалил я, полюбовавшись в кулак. — Сколько в этом настроения!.. «Сумерки насущного»… Да-а… Не окажи вы мне, как называется ваша картина, я бы сам догадался; э, мол, знаю!.. Это не что иное, как «Сумерки насущного»! Крысу сами поймали? — Сам. — Чудесное животное. Жаль, что дохлое. Можно погладить? — Пожалуйста. Я со вздохом погладил мертвое животное и заметил: — А как жаль, что подобное произведение непрочно… Какой-нибудь там Веласкез или Рембрандт живет сотни лет, а этот шедевр в два-три дня, гляди, и испортится. — Да, — согласился художник, заботливо поглядывая на крысу. — Она уже, кажется, разлагается. А всего только два дня и провисела. Не купите ли? — Да уж и не знаю, — нерешительно взглянул я на левого. — Куда бы ее повесить? В столовую, что ли? — Вешайте в столовую, — согласился художник. — В роде этакого натюрморта. — А что, если крысу освежать каждые два-три дня? Эту выбрасывать, а новую ловить и вешать на поднос? — Не хотелось бы, — поморщился художник. — Это нарушает самоопределение артиста. Ну, да что с вами делать! Значит, покупаете? — Куплю. Сколько хотите? — Да что же с вас взять?.. Четыреста… — Он вздрогнул, опасливо поглядел на меня и со вздохом докончил: — Четыреста… копеек. — Возьму. А теперь мне хотелось бы приобрести что-нибудь попрочнее. Что-нибудь этакое… неорганическое. — «Американец в Москве» не возьмете ли? Моя работа. Он потащил меня к какой-то доске, на которой были набиты три жестяных трубки, коробка от консервов, ножницы и осколок зеркала. — Вот скульптурная группа: «Американец в Москве». По-моему, эта вещица мне удалась. — А еще бы! Вещь, около которой можно заржать от восторга. Действительно, эти приезжающие в Москву американцы, они тово… Однако, вы не без темперамента… Изобразить американца в роде трех трубочек… — Нет, трубочки — это Москва! Американца, собственно, нет; но есть, так сказать, следы его пребывания… — Ах, вот что. Тонкая вещь. Масса воздуха. Колоритная штукенция. Почем? — Семьсот. Это вам для кабинета подойдет. — Семьсот… чего? — Ну, этих самых, не важно. Лишь бы наличными. III
Я так был тронут участием и доброжелательным ко мне отношением двух экспансивных, экзальтированных молодых людей, что мне захотелось хоть чем-нибудь отблагодарить их. — Господа! Мне бы хотелось принять вас у себя и почествовать, как представителей нового чудесного искусства, открывающего нам, опустившимся, обрюзгшим, необозримые светлые дали, которые… — Пойдемте, — согласились оба молодых человека о ложками в петлицах и миловидной розовой сыпью на лицах. — Мы с удовольствием. Нас уже давно не чествовали. — Что вы говорите! Ну, и народ пошел. Нет, я не такой. Я обнажаю перед вами свою бедную мыслями голову, склоняю ее перед вами и звонко, прямо, открыто говорю: «Добро пожаловать»! — Я с вами на извозчике поеду, — попросился левый. — А то, знаете, мелких что-то нет. — Пожалуйста! Так, с ложечкой в петлице и поедете? — Конечно. Пусть ожиревшие филистеры и гнилые ипохондрики смеются — мы выявляем себя, как находим нужным. — Очень просто, — согласился я. — Всякий живет, как хочет. Вот и я, например. У меня вам кое-что покажется немного оригинальным, да ведь вы же не из этих самых… филистеров и буржуев! — О, нет. Оригинальностью нас не удивишь. — То-то и оно. Приехали ко мне. У меня уже был кое-кто: человек десять — двенадцать моих друзей, приехавших познакомиться поближе с провозвестниками нового искусства. — Знакомьтесь, господа. Это все народ старозаветный, закоренелый, вы с ними особенно не считайтесь, а что касается вас, молодых, гибких пионеров, то я попросил бы вас подчиниться моим домашним правилам и уставам. Раздевайтесь, пожалуйста. — Да мы уж пальто сняли… — Нет, чего там пальто. Вы совсем раздевайтесь. Молодые люди робко переглянулись: — А зачем же? — Чествовать вас будем. — Так можно ведь так… не раздеваясь… — Вот оригиналы-то!! Как же так, не раздеваясь, можно вымазать ваше тело малиновым вареньем?.. — Почему же… вареньем?., зачем? — Да уж так у меня полагается. У каждого, как говорится, свое. Вы вешаете на поднос дохлую крысу, пару карамельных бумажек и говорите: это картина! Хорошо! Я согласен! Это картина. Я у вас даже купил ее. «Американца в Москве» тоже купил. Это ваш способ. А у меня свой способ чествовать молодые многообещающие таланты: я обмазываю их малиновым вареньем, посыпаю конфетти и, наклеив на щеки два куска бумаги от мух, усаживаю чествуемых на почетное место. Есть вы будете особый салат, приготовленный из кусочков обоев, изрубленных зубных щеток и теплого вазелина. Не правда ли оригинально? Запивать будете свинцовой примочкой. Итак, будьте добры, разденьтесь. Эй, люди! Приготовлено-ли варенье и конфетти? — Да нет! Мы не хотим… Вы не имеете права… — Почему?!! — Да что же это за бессмыслица такая: взять живого человека, обмазать малиновым вареньем, обсыпать конфетти!.. Да еще накормить обоями с вазелином… Разве можно так? Мы не хотим. Мы думали, что вы нас просто кормить будете, а вы… мажете. Зубные щетки рубленые даете… Это даже похоже на издевательство!.. Так нельзя. Мы жаловаться будем. — Как жаловаться? — яростно заревел я. — Как жаловаться?! А я жаловался кому-нибудь, когда вы мне продавали пятиногих синих свиней и кусочки жести на деревянной доске?! Я отказывался?!! Вы говорили: мы самоопределяемся. Хорошо! Самоопределяйтесь. Вы мне говорили — я вас слушал. Теперь моя очередь… Что?! Нет, уж знаете… Я поступал по-вашему, я хотел понять вас — теперь понимайте и вы меня. Эй, люди! Разденьте их! Мажь их, у кого там варенье. Держите голову им, а я буду накладывать в рот салат… Стой, брат, не вырвешься. Я тебе покажу сумерки насущного! Вы самоопределяетесь — я тоже хочу самоопределиться… Молодые люди стояли рядышком передо мной на коленях, усердно кланялись мне в ноги и, плача, говорили: — Дяденька, простите нас. Ей-Богу, мы больше никогда не будем… — Чего не будете? — Этого… делать… Таких картин делать… — А зачем делали? — Да мы, дяденька, просто думали: публика глупая, хотели шум сделать, разговоры вызвать. — А зачем ты вот, тот… левый… зачем крысу на поднос повесил? — Хотел, как чуднее сделать. — Ты так глуп, что у тебя на что-нибудь особенное, интересное даже фантазии не хватило. Ведь ты глуп, братец? — Глуп, дяденька. Известно, откуда у нас ум?! — Отпустите нас, дяденька. Мы к маме пойдем. — Ну, ладно. Целуйте мне руку и извиняйтесь. — Зачем же руку целовать — Раздену и вареньем вымажу! Ну?! — Вася, целуй ты первый… А потом я. — Ну, Бог с вами… Ступайте. Провозвестники будущего искусства встали с колен, отряхнули брюки, вынули из петлицы ложки и, сунув их в карман, робко, гуськом вышли в переднюю. В передней, натягивая пальто, испуганно шептались: — Влетели в историю! А я сначала думал, что он такой же дурак, как и другие. — Нет, с мозгами парень. Я, было, испугался, когда он на меня кричать стал. Вдруг, думаю, подносом по голове хватит! — Слава Богу, дешево отделались. — Это его твоя крыса разозлила. Придумал ты, действительно: дохлую крысу на поднос повесил! — Ну, ничего. Уж хоть ты на меня не кричи. Я крысу выброшу, а на пустое место стеариновый огарок на носке башмака приклею. Оно и прочнее. Пойдем, Вася, пойдем, пока не догнали. Ушли, объятые страхом… Рассказ Аверченко был экранизирован в 1963. Экранизация приурочена в событиям на тогдашней советской художественной сцене | ||||||||||||||||||





