 | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
Андрей Ковалев. Окончательное решение проблемы искусства: социологическое искусствознание 1920-х гг. 1994 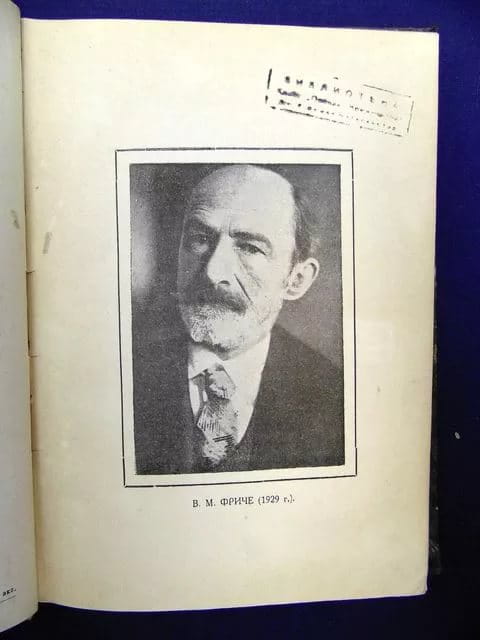
Владимир Максимович Фриче, автор программного советского труда "Социология искусства" Цена на кирпич в омске на egida55.ru. На сайте http://www.bonvi.ru виски 1954 года купить. Логика научного расследования неумолимо привела таких ученых, как А. Федоров-Давыдов, И. Маца, В. Фриче, к выводам, которые практически уничтожили сам предмет рассмотрения, то есть искусство. Сюжет этот почти неизвестен, отчасти из-за кратковременности, отчасти — по причине того, что пик событий пришелся на 1929 год, год «Великого перелома», и события совсем иного сорта заслонили его. Парадоксальным, на первый взгляд, выглядит тот факт, что социологический подход к искусству, который опирался на официальную идеологию, был репрессирован в той же, если не большей, мере, что и «формализм». Социологизм был серьезной угрозой тоталитарной системе — опираясь на язык, принятый Властью, он был — в потенции — готов ее раскодировать. Энтузиастический скептицизм социологов искусства вызывал ожесточенную идиосинкразию со стороны исполнителей Языка Власти[1]. Но время печальных ламентаций о том, что наша наука потеряла, давно уже прошло, и сегодня имеется необходимость, скорее, в критической ревизии аналитического глоссария науки об искусстве. Но не придется ли нам тогда кардинально изменить представление не только об объекте наших занятий, но и о его субъекте-художнике? Диффузия формализма и социологизма в академическом искусствознании имела некоторые пределы — секция методологии (социологической) находилась в ГАХНе на правах своего рода лаборатории. Социология большинством искусствоведов и историков искусства рассматривалась как нечто не вполне самодостаточное, как вспомогательный метод, вроде эпиграфики. А. Сидоров, например, предлагал подвергать социологическому рассмотрению уже формально исследованное искусство. По этой причине типовое социологическое исследование двадцатых годов составлено, как правило, из двух частей. Первая часть — «формальная», вторая — «социологическая». По такому принципу построено большинство статей молодых искусствоведов, опубликованных в сборнике «Русское искусство ХIХ века» под редакцией В. М. Фриче[2]. В рамках жесткой классовой атрибуции, заданной учителем всех социологов искусства, Владимиром Максимовичем Фриче, художник только оформляет идеологию своего класса. Важно лишь правильно определить тот класс, на идеологию которого он работает. В работах самого Фриче такая атрибуция, особенно когда он пытался проводить ассоциации в области цвета или композиции, выглядела просто курьезно (например, глава «Социология цвета» в его «Проблемах искусствоведения»)[3]. В книге «Русское искусство промышленного капитализма» Федорова-Давыдова[4] градус социологического анализа повышается от обыкновенной в те времена риторики до разрушительного пафоса. Для него, как и для всякого социолога, искусство имеет свою экономику и свою идеологическую надстройку. Он прямо приравнивает станковое искусство к товару, обращение и производство которого сходно с любым другим товаром. Так, он рассматривает Товарищество передвижных выставок как типичное мелкотоварное предприятие, ибо «демократизация создает товарный рынок для искусства»; описывает, как в 1900-х меценатство заменяет роль мелкого товарного рынка в воздействии на судьбы искусства и так далее. Но что происходит, когда художник встраивается в буржуазную «эстетику роскоши»? Федоров-Давыдов обнаруживает специфическую черту положения художника в буржуазном обществе — «Художник (работавший на крупного мецената. — А. К.) был экономически независим от широкой публики и это создавало ему иллюзию свободы и независимости». Одновременно, в 1900-е и особенно в 1910-е годы, растет значение малых форм искусства, которое связано не с имманентными законами развития искусства, но «обуславливается их товарной рентабельностью». В качестве короткой ремарки отмечу, что современный рынок искусства, который, после его легитимизации, почти целиком располагается в области антиквариата, оперирует в основном предметами мелкотоварного художественного производства, которые зафиксировал в свое время Федоров-Давыдов, и никак не реагирует на неконсумерические факторы. Так, русский авангард, который в тот период еще не был вовлечен в широкий товарный оборот, и в настоящее время также почти не вращается на местном рынке, на котором произошла реставрация на 1914 год. Впрочем, и русский футуризм, и такие западные явления, как экспрессионизм, для Федорова-Давыдова и его единомышленников не более, чем отражения идеологии класса, склоняющегося к упадку. Логический ход социологических рассуждений неизбежно приводит его к выводу, что искусство в буржуазном обществе невозможно. «Не касаясь идеологического содержания и значения стилизаторского подражания всем стилям и всем народам в этом искусстве, можно сказать, что оно как факт вытекало из невозможности органического разрешения проблемы стиля в условиях капиталистического общества». Третья, по Федорову-Давыдову, технологическая, стадия искусства в буржуазном обществе и есть «самоуничтожение стиля, которое было и самоуничтожением буржуазного индивидуалистического искусства». За всеми этими решительными негативными жестами, изгнаниями торговцев из храма искусств просматривается абсолютный идеализм, приверженность к чистому, незаинтересованному и абсолютно нематериальному искусству. В предельном варианте этот пафос выразил Вальтер Беньямин в своем знаменитом «Произведении искусства в эпоху его технической воспроизводимости» (1935), призвав, в очередной раз, отбросить «ряд устаревших понятий, таких, как творчество и гениальность, вечная ценность и таинство, неконтролируемое использование которых ведет к интерпретации фактов в фашистском духе»[5]. Естественно, что за всей этой предельно эстетской утопией не было почти никакого реального искусства. Но эта утопия, выведенная из логики научного исследования, привела Алексея Федорова-Давыдова, Ивана Мацу, Алексея Михайлова и даже самого Владимира Фриче, человека старомодного по вкусовым пристрастиям, в ряды эфемерного образования — общества «Октябрь». Это общество, где собрались «старые» лефовцы, социологи искусства и молодые вхутемасовцы, именно там и происходил последний акт осуществления Великой утопии русского авангарда. В ходе жестких обсуждений в обществе «Октябрь» тоталитарная машина и апроприировала окончательно идею Большого стиля, над-индивидуального и синтетического. Но окончательное воплощение стиля произошло, конечно, уже без самих идеологов, зараженных мелкобуржуазным индивидуализмом. Для реализации были призваны как раз герои товарного производства живописных изделий предреволюционого времени — Исаак Бродский, Александр Герасимов и пр. Последние качественно выполнили заказ на дематериализацию станковой картины, которая умерла окончательно, превратившись в симулякр себя самой. Неудачливые или менее гибкие и упорные станковисты, производители товарных ценностей, доказывали неверность тезиса о том, что станковое искусство относится к эстетике буржуазной роскоши, стоически производя искусство в условиях тотальной невозможности его потребить. Наличие мощной и все нараставшей оппозиции социалистическому реализму доказывает слишком абстрактный тезис Бориса Гройса о семантической социальной преемственности авангарда и соцреализма. Но как раз эта оппозиция и расшатала незыблемость социалистического реализма как авангардизма путем успешного внедрения квазирыночных отношений, заключавшихся в торговле искусством между цехом (Союзом художников) и государством. Самым парадоксальным образом именно живописные ценности оказались языком дешифровки идеолекта, инструментом критики общества. Собственно авангардизма в Советском Союзе не существовало практически до середины семидесятых именно вследствие этой двусмысленности и смазанности частей бинарной оппозиции. Мы подошли — правда с другой стороны — к роли художника в буржуазном обществе, которая оказалась сокрыта для самих социологов искусства 1920-х годов. Они действительно произвели глубокую деконструкцию искусства как институции буржуазного общества. Собственно, дезинтеграция традиционного понимания картины и искусства и была основной проблемой европейского модернизма. Но, как отмечает Петер Бюргер, один из самых радикальных теоретиков модернизма, «основная цель авангардистов в их самых экстремистских манифестациях — искусство как институция в том виде, в каком оно развивается в буржуазном обществе». Но все дело в том, что капиталистическое сознание обладает потрясающей способностью ассимилировать любой протест и интегрировать любую альтернативу. «Несмотря на то, что дюшановский „Писсуар“ предполагает разрушение искусства как институции, включая его специфические организационные формы, такие как музеи и выставки, художник, приславший на выставку печную трубу, требует, чтобы его „работа“ была принята музеем. Но это значит, что авангардистский протест обращен в свою противоположность»[6]. Таким образом, художник в западном буржуазном обществе занял место терапевта общественного подсознательного, актуального шизофреника, раскодирующего потоки желания машины власти. Но Федоров-Давыдов и Маца, равно как и Арватов с Тарабукиным еще не имели — и не могли иметь — такого опыта, который имели Бюргер в семидесятых или Делез и Гваттари в восьмидесятых. Советские социологи искусства нашли код к деконструкции буржуазного искусства как институции, и ключ этот оказался очень даже простым — достаточно было просто указать, что станковое искусство есть потребительский товар. Для этого определения не требовалась слишком большой решимости — из-за специфики географического нахождения самих социологов искусства в Советской России. Гораздо сложнее было дойти до предельного и радикального разрешения вопроса. «Буржуазия, — как писал Ролан Барт в „Мифе сегодня“, — довольствуется миром вещей, но не хочет иметь дело с миром ценностей; ее статус подвергается подлинной операции вычеркивания имени; буржуазию можно определить поэтому как общественный класс, который не желает быть названным»[7]. Прибавим, что на столь же революционное раскрытие смысла тоталитарного социализма как Языка Власти у социологов 20-х уже не было исследовательской воли и революционной решимости, и сами они с фатальной неизбежностью пополнили ряды интеллигентской оппозиции к репрессивной победившей авангардистской утопии, базис для которой они же сами и заложили. Но эта склонность к слишком жесткой социальной атрибуции и отказ от рассмотрения реализации индивидуальности художника в буржуазном обществе в качестве критика, идеолекта и оппонента власти и была наиболее слабым местом социологии искусства. Если возвратиться к тому же Фриче, то он ясно и недвусмысленно утверждал, что «разрыв художника со своей средой отнюдь не есть доказательство в пользу надклассового или внеклассового характера искусства». Буржуазное декадентство было самой излюбленной мишенью социологической иронии. Если интеллигенция не есть класс, то ее можно списать со счета, ее присутствие на общем фоне только затуманивает картину. Например, Наталья Коваленская в работе «Русский жанр накануне передвижничества» пишет о том, что «осложняющее влияние психологии самих художников как представителей мелкобуржуазной интеллигенции сказалось в народнических тенденциях». И далее: «гипертрофированный психологизм этой интеллигенции, ее оторванность от материального производства, с одной стороны, и от гедонистического потребительства, с другой, были причиной слабой художественной формы искусства 60-х гг.»[8]. Но именно эта выключенность из процессов материального обмена и преимущественная активность в области обмена символического и предопределила роль катализатора и движущей силы революции символических ценностей. Чтобы понять искусство, надо выпрыгнуть из него, как говорил Борис Арватов в книге о Натане Альтмане[9]. Но радикальное уничтожение значения предмета искусства как непререкаемой ценности открыло абсолютно новые перспективы за поверхностью холста, покрытого красками. Двадцатый век был эпохой негативной эстетики и Великого Отказа. Оптика в конце эпохи размывается, даже со стороны великих «отрицателей» раздаются призывы к положительным ценностям и прочему буржуазному мусору. И в этих условиях особенно важно хоть как-то поддерживать остроту зрения и изучать свой предмет таким, каким он был — то есть искусством, которое пыталось перестать быть искусством. ПРИМЕЧАНИЯ 1. Новоженова А. Л. От социологического детерминизма к классовому идеалу. Советская социология искусства 1920-х годов // Социология власти. 2014. №4. С. 117—136. 2. См., например: Коваленская Н. Н. Русский жанр накануне передвижничества // Русская живопись XIX века: сб. статей. М.: РАНИОН,«Интернациональная» (39-я) типография «Мосполиграф», 1929. 3. Фриче В. М. Проблемы искусствоведения: сборник статей по вопросам социологии искусства и литературы. М. — Л.: Государственное издательство, 1930. 4. Федоров-Давыдов А. А. Русское искусство промышленного капитализма. М.: Государственная академия художественных наук, 1929. 5. Беньямин В. Краткая история фотографии. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. С. 60. 6. Bürger P. Theory of the Avant-Garde. Manchester University Press, 1984. P. 90. 7. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Пер. с фр., сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. М.: Прогресс, 1989. С. 105. 8. Коваленская Н. Н. Русский жанр накануне передвижничества // Русская живопись XIX века. М., 1929. 9. Арватов Б. И. Натан Альтман. Берлин: Петрополис, 1924. Впервые опубликовано: А.Ковалев. Книга перемен. Том 1. М., 2016 | ||||||||||||||||||